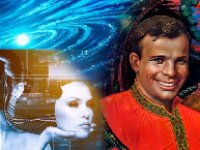«Сталинский план преобразования природы» в контексте истории русской мысли

Одним из важнейших проектов Советской власти за всю её историю стал послевоенный «план преобразования природы», по праву получивший наименование «сталинского». Всесторонне обоснованный с точки зрения как естественных наук, так и коммунистической идеологии, вписанный в ряд «проектов века», план в то же время опирался на достижения русской общественной мысли предыдущих эпох, в числе которых важнейшее место занимает «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
Непосредственным толчком к созданию плана послужила засуха 1946 года и последовавший за ней в 1947 г. голод. Но ещё в 1931 году было принято постановление СНК и ЦК ВКП(б) «о создании обширных полезащитных полосных насаждений на неорошаемых и орошаемых территориях». В 1938 г. было опубликовано Постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О мерах обеспечения устойчивого урожая в засушливых районах юго-востока СССР». Если до 1917 года в стране имелось 11 полезащитных полос на полях, то к 1941 году их стало 468. С 1918 по 1941 год в стране было создано 181 овражно-балочное и 265 пескоукрепительных насаждений.
Обрушившаяся на Советский Союз Великая Отечественная война лишь на время отодвинула переход Советского государства к разработке и реализации комплексного проекта, который, опираясь на естественные биологические факторы, внешне диссонировал с индустриализацией 30-х годов, но фактически продолжал её курс, направленный на обеспечение экономической, продовольственной и в целом национальной безопасности страны и в то же время выходящий за пределы чисто национальных задач на мировой уровень.
20 октября 1948 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрении травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Эта беспримерная до той поры в мировой практике 15-летняя программа научного регулирования природных процессов получила название «Сталинский план преобразования природы». Аналогичный 20-летний план в 1952 году начал разрабатываться той же комиссией для Закавказья, Средней Азии и Уральско-Сибирского региона.
Планом предусматривалось: 1) создание сплошной сети лесополос шириной от 6 до 200 м., расчленяющей степь на изолированные прямоугольные поля и оконтуривающей балки и овраги; 2) массовое строительство водоемов; 3) внедрение травопольной системы земледелия, при которой часть пашни в севооборотах занята многолетними бобовыми и мятликовыми травами, являющимися кормовой базой и естественным средством восстановления и повышения плодородия почвы. Лесонасаждения должны были поглощать поверхностный сток талых и дождевых вод и уже тем самым противодействовать силе суховеев. Планировалось посадить 5000 км лесных полос по водоразделам Днепра, Донца, Дона и Волги.
«Созданные лесополосы и водоемы, — пишет Ю.Н. Голубчиков («Советская Россия», 27.09.2018), — должны были существенно разнообразить флору и фауну. Таким образом, план совмещал в себе задачи охраны окружающей среды и получения высоких и устойчивых, не зависящих от капризов природы, урожаев. Он служил целям украшения территории и увеличения её биоразнообразия».
А известный историк Ю.В. Емельянов отмечает: «Хотя ныне под воздействием официальной пропаганды в общественном сознании широко распространено представление о том, что советские власти никогда не обращали внимание на проблемы окружающей среды, мероприятия, перечисленные в правительственном Постановлении от октября 1948 года, представляли собой первую в мировой истории и беспрецедентную по масштабу программу охраны природы. Программа лесонасаждений в СССР знаменовала перелом в ходе многовекового отступления лесного покрова нашей планеты». («Советская Россия», 8.11.2018).
Кроме того, план включал строительство на Волге новых крупных гидроэлектростанций — Куйбышевской и Сталинградской, на Дону — Цимлянской, и соединение их Волго-Донским каналом. Это позволяло регулировать сток воды в Волге, повысить её уровень. Инженерные работы огромного масштаба должны были охватить юг Украины, степной Крым, Среднюю Азию, что позволило бы привести воду в засушливые и пустынные районы.
Необходимость сохранения природы нашла отражение в культуре того времени. Напомним знаменитый роман Л.М. Леонова «Русский лес», написание и публикация которого относятся как раз к началу 1950-х годов и который явным образом связан с общей атмосферой интереса к природоохранной проблематике. Ещё раньше, в 1947 г., Леонов опубликовал статью о лесе «В защиту зелёного друга».
По мнению известного современного философа В.А. Туева, И.В. Сталин в своей деятельности руководствовался принципом «ноосферизма»: «Сегодня идеи ноосферы приобрели всемирное распространение, они получили новое оформление в концепции коэволюции, гармонического отношения между обществом и природой. Но именно Сталин был первым государственным деятелем, мыслившим в русле идей «космизма» и «ноосферизма». ...Ему особенно импонировали такие гении, мыслящие масштабными — глобальными и вселенскими — категориями, как К.Э. Циолковский и В.И. Вернадский» (Туев В.А. Наш Сталин).
Как отмечает Туев, «ноосферизм» Сталина наиболее ярко проявился именно в создании и осуществлении плана преобразования природы: «Это был план, позволяющий в кратчайшие сроки осуществить давнюю сталинскую мечту о превращении страны в цветущий сад». Но при этом план не был «волюнтаристским» или утопическим, а опирался на достижения русской науки и философской мысли. Важно, что в процессе преобразования основная роль отводилась не техническим, а биологическим факторам. «Итогом реализации этого грандиозного плана стало бы целенаправленное влияние на климат обширных пространств, создание более благоприятных условий для земледелия и общее улучшение экологической обстановки в стране» (Там же).
После смерти И.В. Сталина был взят курс не на интенсивный, а на экстенсивный путь развития сельского хозяйства, и «план преобразования природы» был фактически свёрнут. Вновь сошлёмся на статью Ю.Н. Голубчикова: «Созданные в 1949–1951 годах 570 лесозащитных станций были ликвидированы. Лесополосы начали вырубаться, хотя остатки их во многих местах сохранились и до сих пор продолжают играть свою полезащитную роль. Пруды и водоемы для разведения высокопородных рыб были заброшены. Полуразрушенные плотины бывших колхозных ГЭС и мельниц и сейчас можно видеть на небольших реках. С десталинизацией появилась устойчивая тенденция рассматривать природопреобразующие проекты, проводившиеся в сталинские времена, в негативном аспекте. ...Хрущев связывал развитие сельского хозяйства не с оптимизацией земельного пространства, а со всеобщей его распашкой, «вплоть до крыльца». Такая распашка вызвала повсеместную эрозию почв и привела к провалу плана поднятия целины». Вместо того, чтобы покончить с суховеями, новый курс власти их лишь «стимулировал».
«С приходом к власти в стране людей, — пишет В.А. Туев, — не причастных к русский культуре, ориентировавшихся на Запад, на его ценностные установки, в том числе на развитие производства путём «покорения» природы, а не сотрудничества с ней, были организованы кампании по освоению целинных и залежных земель, по свёртыванию травопольных севооборотов и т. д. Итогом явился подрыв продовольственной базы страны и переход к закупкам зерна за рубежом».
Главу о сталинском ноосферизме философ завершает такими словами: «...именно в ноосферной устремлённости сталинского мышления наиболее масштабно и зримо проявилась историческая миссия нашего народа, а отвержение идеологии сталинизма после кончины её творца стало трагедией не только для нашего народа, но и для всего человечества» (Туев В.А. Наш Сталин).
Если мы перенесёмся ещё на несколько десятилетий вперёд, в годы «перестройки», то увидим, как дискредитация «проектов века» сыграла существенную роль в подготовке демонтажа советского строя. Речь идёт, в частности, о борьбе против так называемого «поворота северных рек», который, напомним, заключался в том, чтобы незначительную часть стока Оби, Печоры и некоторых других крупных рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, перенаправить на юг для орошения пустынных районов Средней Азии, что привело бы, во-первых, к росту производства хлопка и экономическому прогрессу данной территории, а во-вторых, как следствие, геополитически закрепило бы её за Россией. Против проекта была организована массовая общественная кампания, и он был закрыт.
С.Г. Кара-Мурза пишет в книге «Советская цивилизация»: «Это — принципиальное, мировоззренческое отрицание больших созидательных программ (“проектов века”). Разумеется, большие программы всегда присутствовали при становлении больших стран, а тем более цивилизаций. Однако именно при советском строе с его плановым хозяйством появилась возможность в короткие сроки концентрировать средства на большом числе крупных проектов, и в идеологии оказалось легко представить такие проекты как порождение тупой “административно-командной системы”, в которой якобы все думали только о том, как угробить побольше ресурсов (“экономика работала на себя, а не на человека”)».
Впервые данный проект появился ещё до революции. В 1868 г. об идее перебросить часть воды Иртыша в Аральское море писал Я.Г. Демченко (1842-1912) — публицист и общественный деятель, придерживавшийся в политическом отношении, кстати, «правых» монархических взглядов. Тогда проект был поднят на смех и «положен под сукно». После революции был проведён ряд исследований, но планомерная работа над программой началась лишь в 1960-х годах.
«В кампании против “поворота рек”, — пишет С.Г. Кара-Мурза — было не только умолчание об исторических корнях данной конкретной программы. Публике не напомнили самые исходные сведения о проблеме: важным моментом в возникновении всех цивилизаций на Земле было решение больших водохозяйственных задач, в том числе связанных с перераспределением воды в пространстве (начиная с перемещения воды от источника к жилищу)».
Учёный делает важный вывод: «Если попытаться кратко выразить принципиальное требование противников программы, то оно оказывается полностью абсурдным. Оно ведь выглядит так: “Не троньте северные реки!”. Отвергался не конкретный технический проект (место преодоления водораздела, схема каналов и водохранилищ и т.д.), а именно сама идея “преобразования природы”».
Между тем, данная идея имеет глубокие корни в истории русской общественной мысли. К сожалению, в литературе до сих пор почти не отмечался параллелизм между советской практикой (и, в частности, «сталинским планом преобразования природы») и взглядами русского мыслителя Н.Ф. Фёдорова (1829-1903), получившими известность как «Философия общего дела». Здесь нет места рассматривать всё содержание этой системы (более подробно о ней можно прочитать в моих статьях «Революционный консерватизм Николая Фёдорова» и «Николай Фёдоров, русский космизм, “Русский Лад”»), остановимся лишь на мыслях философа, относящихся непосредственно к «преобразованию природы».
Значительная часть работ Н.Ф. Фёдорова посвящена теме «регуляции природы», прежде всего атмосферных явлений. Но рассматривал он эти вопросы не с узко утилитарной, а с более глубокой философской точки зрения: как подготовку человечества к космической миссии, заселению других планет, достижению бессмертия и воскрешению ушедших поколений.
В блестящей афористической форме мыслитель писал: «Нарушение законов слепой природы есть закон природы человеческой. Слепое повиновение природе есть преступление со стороны человека. Только надо различать противоестественное от сверхъестественного — в материальном, а не мистическом смысле. ...Вертикальное положение есть нарушение, востание (Sic! — Авт.) против коренного закона всемирного тяготения. Вся архитектура есть более или менее смелое противодействие мировой силе всеобщего падения».
Природа, по словам Н.Ф. Фёдорова, «нам враг временный, а друг вечный». «Природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою; в нас она достигает совершенства, или такого состояния, достигнув которого, она уже ничего разрушать не будет, а всё в эпоху слепоты разрушенное восстановит, воскресит». То есть человек является частью природы, но частью «сознательной», и его работа по изменению лица планеты — продолжение естественной эволюции, но на новом, более высоком «витке». Фактически это прообраз идеи ноосферы, несколько десятилетий спустя сформулированной другими учёными и мыслителями — Э. Леруа, П. Тейяр де Шарденом и В.И. Вернадским.
Важнейшей задачей, притом в первую очередь задачей русского народа, Фёдоров считал «обращение степи в пашню», причём так, чтобы это не вело к вымыванию почв, росту оврагов и, соответственно, к дальнейшему превращению уже не в пашню, а в пустыню. Именно поэтому нужно управление погодными явлениями, например, искусственное вызывание дождя там, где это необходимо. Управление погодой Фёдоров, в противоположность метеорологии, именовал «метеороургией» и подчёркивал, что она «имеет целью — и притом начальною только — спасение от голода». Напомним, что именно голод 1947 г. стал непосредственным поводом к разработке и внедрению «сталинского плана».
Можно указать и ряд «передаточных звеньев», по которым можно проследить преемственность идей Фёдорова и мероприятий Советского правительства. Прежде всего, это деятельность «фёдоровцев» в Советской России в 1920-х гг. — назовём лишь имена Н.А. Сетницкого, А.К. Горского, В.Н. Муравьёва, которые активно пропагандировали «философию общего дела», по мере возможности приноровляя её к нормам марксистской идеологии.
Также нельзя не отметить роль классика социалистического реализма А.М. Горького, фигуры в Советском Союзе в высшей степени авторитетной. Горький был хорошо знаком с идеями Фёдорова и использовал их в своей публицистике 20-30-х гг. (достаточно назвать такие статьи, как «О борьбе с природой», «О праве на погоду», «Засуха будет уничтожена» и др., причём эта тема интересовала молодого Горького ещё в конце XIX в.), имя философа несколько раз упоминается в романе «Жизнь Клима Самгина».
Более прямым было воздействие на «сталинский план преобразования природы» идей русских учёных-естественников, в частности, основателя почвоведения как науки В.В. Докучаева (1846-1903), которые в значительной мере перекликаются с фёдоровскими. «В природе, — отмечал Докучаев, — всё красота, все эти враги сельского хозяйства: ветры, бури, засухи и суховеи, страшны нам лишь потому, что мы не умеем владеть ими. Они не зло, их только надо изучить и научиться управлять ими, и тогда они же будут работать нам на помощь». Наследие Докучаева в Советском Союзе широко пропагандировалось, особенно в послевоенные сталинские годы.
«Значительный вклад в разработку научного почвоведения и лесоведения, — отмечает Ю.В. Емельянов, — сыграли труды В.В. Докучаева, П.А. Костычева. После голода 1891 года правительство России организовало экспедицию под руководством крупнейшего русского ученого-почвоведа В.В. Докучаева, представившего практические рекомендации по борьбе с засухой с помощью создания лесозащитных полос. С 1898 по 1917 год в России было создано 11 полезащитных полос, 170 овражно-балочных насаждений, 52 пескоукрепительных насаждения. ...Желание вернуть родной земле зеленый наряд вдохновляло деятелей русской культуры. В чеховских пьесах «Леший» и «Дядя Ваня» звучали страстные монологи в защиту леса».
Надо назвать и другой, также независимый от Н.Ф. Фёдорова, источник концепций «регуляции природы». Это взгляды русского учёного второй половины XIX века, социалиста-народника С.А. Подолинского (1850-1891), который также по праву ставится в ряд представителей русского космизма и провозвестников ноосферной концепции.
«Главной целью человечества при труде, — отмечал Подолинский, — должно быть абсолютное увеличение энергийного бюджета, так как при постоянной его величине превращение низшей энергии в высшую скоро достигнет предела, далее которого оно не может идти без излишних потерь на рассеяние энергии». И далее: «Действия, имеющие результатом явления, противоположные труду, представляют расхищение энергии, т. е. увеличение количества энергии, рассеиваемого в пространстве». Двигателем прогресса, по Подолинскому, становится положительная организованная сознательная трудовая деятельность, направленная на накопление энергии (созидание нового) для удовлетворения растущих потребностей общества, для которой нужны кооперация, сотрудничество и взаимопомощь.
Поэт Н.А. Заболоцкий, связь мировоззрения которого с «фёдоровской» традицией достаточно известна, писал в 1947 г. о временах, «...Когда мильоны новых поколений / Наполнят этот мир сверканием чудес / И довершат строение природы...»
Данное представление о человеке как «со-творце», соратнике Бога совсем не чуждо православной традиции, хотя может пониматься в ней по-разному. К примеру, так эту мысль в одной из лекций формулирует современный публицист и философ, теоретик православного социализма Н.В. Сомин (р. 1947): «Господь дал человеку свободу. Свободу громадную. Свободу просто потрясающую. И Господь ждёт, чтобы человек в этом деле был Его сотворцом, Его воином Христовым, который боролся бы с тёмными силами на всех уровнях. В себе прежде всего. Но и не только в себе – и на уровне социума, на уровне всей природы. Ведь там тоже зла много. Господь хочет, чтобы всё-всё это было преображено, такова Его воля. И если мы вот эту волю чутко узнаём и эту волю выполняем – это лучше всего».
Отметим при этом, что Н.В. Сомин, будучи христианским социалистом, в то же время не является приверженцем идей русского космизма, то есть данное представление о человеке, развитое космистами, выходит и за пределы этой системы взглядов.
Другой современный философ, напротив, позиционировавший себя как космист, но в политике человек скорее умеренно-либеральных взглядов — И.М. Борзенко (1933-2003) — в этом вопросе выступал с практически тех же позиций, но уже исходя не из религиозных, а из научных представлений: «Главный недостаток нарисованной физической картины мира — с её гнетущим, хотя и весьма отдалённым, исходом — отсутствие в ней человека, его разумной деятельности. На неё надежды активного эволюционизма Н.Ф. Фёдорова, В.И. Вернадского, П. Тейяр де Шардена и других, в том числе целой плеяды русских космистов, уповающих на всепроникающую человеческую мысль. Выжить в борьбе с голодом и взаимоуничтожением, сохранить земную природу, в условиях которой мы живём, и, наконец, освоить масштабную космическую регуляцию для преодоления стихий, солнечного угасания и распада «нашей» Вселенной — таковы текущие и перспективные задачи планетарного человечества» (Борзенко И.М. Ноосферный гуманизм).
Таким образом, последовательное развитие как христианских, так и естественнонаучных концепций приводит к выводу о ключевой роли человека в управлении природой. Человек предстаёт как «мозг природы», орган управления, который в ходе эволюционного развития она для себя создаёт, чтобы заменить стихийное развитие планомерным.
«Консервативная» христианская мысль смыкается здесь с самыми «прогрессивными» левыми идеологиями. Но и на противоположном фланге формируется столь же неожиданный для многих альянс сил, стремящихся «остановить развитие». В нём точно так же представлены и «религиозные консерваторы», и «левые» (в основном в лице части радикальных «зелёных»). Примером может служить трактат известного французского философа, теоретика «новых правых» Алена де Бенуа (р. 1943) «Вперёд, к прекращению роста!», содержание которого, в общем-то, явствует из названия.
Отметим, что «традиционалист» А. де Бенуа в религиозном отношении является не христианином, а приверженцем язычества, которое он и ставит в основу «европейской традиции», а также поклонником идейного антипода Н.Ф. Фёдорова — Ф. Ницше. Соответственно, с христианством он связывает именно «порчу традиции» и появление идей прогресса, которые впоследствии отделились от своих религиозных корней и стали проявляться в основном в атеистической форме.
Не вдаваясь здесь в подробный анализ идей, высказанных А. де Бенуа, зададимся лишь одним простым вопросом: возможны ли остановка экономического роста и возвращение к сельскому типу экономики, к которым он призывает, без остановки роста населения — и не просто остановки, а его радикального сокращения? Отрицательный ответ очевиден. То, что было возможно при 500 миллионах мирового населения, нереально при численности населения в 7-8 миллиардов.
Но каким путём предполагается в таком случае сокращать население — через «планирование семьи» и сокращение рождаемости? Если да, то этот путь несовместим с традиционными ценностями, которые подразумевают, в частности, многодетность (зато вполне приемлем для либеральных идеологов). Если нет, то это путь избавления от «излишков» населения через голод, войны и эпидемии.
Напротив, русский космизм рассматривает рост и населения, и экономики, и других сфер человеческой деятельности как очевидное благо, предлагает не довольствоваться достигнутым уровнем развития (или тем более отступать на более низкие), нацелен на ускорение технического и социального прогресса для достижения полностью управляемого развития цивилизации, но с опорой на традиционные духовные ценности общества и на сохранение природного разнообразия. Русский космизм как концепция даёт возможность диалектического снятия «противоположностей», в роли которых сегодня выступают «консерватизм» и «прогрессизм».
Павел ПЕТУХОВ