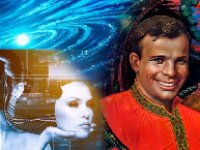Одними чаяниями со страной и народом

Почётную и трудную профессию писателя, о существе которой он говорил в своей речи на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, опубликованной в «Правде» 28 августа 1934 года, Борис Лавренёв, чьё стотридцатилетие со дня рождения приходится на эти июльские дни, выбрал осознанно. Впрочем, здесь уместно будет сказать, что и сама профессия, а если точнее — призвание однажды выбрало его.
И надо отметить, что в большую литературу он пришёл человеком по годам и облику в общем-то молодым, но, с учётом пройденного жизненного пути, достаточно зрелым. За плечами у него были и юношеские мечтания, и первый морской поход, когда он в гимназические годы сбежал из дома в Херсоне и подвизался на судне «Афон», доставившем его в Александрию. И учёба на юридическом факультете Московского университета, благополучно завершившаяся в 1915 году. И ныряние «вниз головой в эгофутуристское море». И опыт участия в Первой мировой войне, где он прочувствовал на себе газовую атаку противника, досыта накормившую его «вонючим завтраком». И участие в Февральской революции, когда ему пришлось быть комендантом штаба революционных войск московского гарнизона и адъютантом коменданта Москвы. И пристальное восприятие Октября, который на некоторое время выбил Бориса из колеи. И бои Гражданской войны, и штурм петлюровского Киева, и борьба за Крым, и комендантство в Алуште, и командование артиллерийской обороной на участке Алушта — Гурзуф, и уход в июне 1919 года из Крыма под натиском белых. И отправка в Ташкент, куда он прибыл в январе 1920 года и где был военным комендантом. И служба в распоряжении Туркфронта и его газеты «Красная звезда», совмещавшаяся с работой в «Туркестанской правде»… Что и говорить, в начале двадцатых годов прошлого столетия был Борис человеком, многое повидавшим, пережившим и обдумавшим. Успел он к тому времени заявить о себе и как публицист, удачно выступавший на страницах периодической печати.
Большое влияние на молодого литератора, бесспорно, оказала Первая мировая война. Она дала ему тот начальный толчок, определивший предмет его творческих исканий. С военной тематикой Лавренёва будут связывать тесные узы. «Я никогда не жалел и не пожалею о том, что вместе с миллионами простых людей, одетых в серые шинели, прошёл сквозь бессмысленный кошмар последней войны царизма, — писал Борис Андреевич в «Автобиографии», датированной 1957 годом. — От войны я получил бесценный дар — познание народа. <…>
Только на войне я постиг эту «загадочную» душу, в которой не оказалось никакой загадки. Была народная душа придавлена тяжким камнем горя, нищеты и бесправия, но под этим камнем таилась и дремала до времени могучая сила. Была эта забитая душа полна природного благородства, ласки, благодарности, тёплой человеческой привязанности ко всякому, кто обходился с ней по-человечески. И жила в ней готовая прорваться жаркая ненависть к угнетателям и неистребимая надежда найти спрятанную от простого люда великую правду, которая яркой звездой взойдёт над землёй и одарит всех несказанным счастьем».
Говоря же о приходе Лавренёва в литературу, повторю, что Великий Октябрь «на некоторое время выбил Бориса из колеи». Да, так было. Имелась у этого обстоятельства и своя конкретная подоплёка.
Дело в том, что в молодые годы Лавренёв был далёк от политики. Воспитывавшийся в семье преподавателя русской словесности, он с юности был книгочеем и грезил о море, путешествиях, словом, был увлечённым человеком, романтиком. Потому, наверное, уже в четырнадцатилетнем возрасте он пишет свою первую, раскритикованную отцом поэму «Люцифер», тяготеет к поэзии, живописи, с которой, кстати, не расстанется и в последующие годы, к театру, то есть к культуре в её самом широком понимании.
Нельзя не учесть и самую атмосферу, царившую в обществе в 1917 году. Всё громыхало, кипело, и нелегко было в том потоке информации разобраться даже вполне образованным молодым людям, каким являлся Лавренёв. Замешательство его было вполне объяснимым, о чём он и поведал в 1958 году в «Короткой повести о себе»: «Октябрь на некоторое время выбил меня из колеи. Собственно, не сам Октябрь, а то, что за ним последовало. Демобилизация армии при незаконченной войне, резкие эксцессы, порождённые накипевшей свинцовой ненавистью солдатской массы к любому носителю офицерских погон, немецкое наступление на Украину, Брестский мир, трагическая гибель Черноморского флота — всё это показалось мне непоправимой катастрофой, окончательной гибелью России. Я не мог разобраться в политике большевиков, хотя она привлекала меня уже тем, что большевики не продавали и не собирались распродавать родину оптом и в розницу, наплевав на национальное достоинство, англо-французам, германо-американцам и прочей хищной сволочи, тянувшей лапы к народному достоянию и народной чести.
В растерянном душевном состоянии, с трудом и риском я пробрался в сентябре 1918 года в родной Херсон. В дороге услышал об убийстве Урицкого и покушении на Ленина. Индивидуальный террор казался мне всегда проявлением истерической глупости и недомыслия, и это известие очень взволновало меня. В 1917 году 4 июля мне удалось слышать коротенькую речь Владимира Ильича, сказанную им кронштадтским морякам с балкона дворца Кшесинской. Эта речь произвела на меня громадное впечатление силой внутренней убеждённости, неотразимой точностью мысли, величием души и ума Ленина».
Помочь же развеять сомнения Борису смог мудрый отец, слова которого далее и приводил в вышеназванной небольшой автобиографической повести Лавренёв: «Видишь ли, сынок!.. Самое святое, что есть у человека, — это родина и народ. А народ всегда прав. И если тебе даже покажется, что твой народ сошёл с ума и вслепую несётся к пропасти, никогда не подымай руку против народа. Он умнее нас с тобой, умнее всякого. У него глубинная народная мудрость, и он найдёт выход даже на краю пропасти. Иди с народом и за народом до конца!.. А народ сейчас идёт за большевиками. И, видно, другого пути у него сейчас быть не может!»
Так, совершенно сознательно Лавренёв стал поддерживать большевиков. А в годы Гражданской войны он воочию смог увидеть и тех, кто боролся за установление нового справедливого общественного строя. О них он и напишет первые свои прозаические произведения, повести «Звёздный цвет», «Ветер» и «Сорок первый», сделавшие автора известным и показавшие незаурядный талант молодого писателя, реалистично отображавшего жизнь, но и не лишённого при этом романтических настроений.
Немаловажно отметить и то, что Лавренёв, будучи искренним сторонником Советской власти и человеком прекрасно образованным, хорошо знавшим основы марксистско-ленинского учения, часто обращавшимся к трудам В.И. Ленина, в ряды ВКП(б) — КПСС так и не вступил, на протяжении всей жизни оставаясь беспартийным. Но Лавренёв всегда писал «неостывающим пером советского писателя», строго придерживался партийной линии, жил одними чаяниями и настроениями со своей страной и народом. При этом Лавренёв не терпел людского равнодушия, не прощал подлости, всегда оставался борцом страстным и целеустремлённым, врагом безыдейности, мещанства, безнравственности и пошлости.
Незадолго до смерти Лавренёв с особой гордостью в своей «Автобиографии» писал: «Я советский писатель. Всем, что я мог сделать в литературе и что, может быть, ещё успею сделать, борясь с возрастом и болезнью, — всем я обязан народу моей родины, её простым людям, труженикам, бойцам и созидателям. Они учили меня жить и мыслить вместе с ними, они указывали мне дорогу, бережно поддерживали на ухабах, жёстко, но дружелюбно наказывали за ошибки».
Более тридцати лет посвятил Лавренёв активной творческой деятельности в области художественной прозы и драматургии. Созданные им творения самобытны, уникальны, творческая индивидуальность Лавренёва в них ярко выражена. Писал он просто, но прекрасно, цветисто, отдавая предпочтение слову и словесным упражнениям, не чураясь эмоциональных вкраплений и лирических отступлений, подчёркивавших незаурядный талант мастера. Произведения его читались и читаются легко, непринуждённо; в них нет каких-то обременительных мотивов и интонаций, надрывности, они понятны и несут в себе положительный заряд даже тогда, когда в них отражена суровая правда жизни, наполненная горечью и драматизмом.
Лавренёв был предельно взыскательным творцом. «В литературе, как и в жизни, я не выношу позёрства, шаманства, фокусничества, зазнайства, — писал Борис Андреевич в «Автобиографии». — Не люблю, когда писатели носят самих себя, как некие драгоценные сосуды, и не говорят по-человечески, а изрекают и прорицают. Я люблю живой народный язык, берегу его чистоту и борюсь за неё. Мне физически больно слышать изуродованные русские слова: «учёба» вместо «ученье»; «захороненье» вместо «похороны»; «глажка» вместо «глаженье»; «зачитать» вместо «прочитать» или «прочесть». Люди, которые так говорят, — это убийцы великого, могучего, правдивого и свободного русского языка, того языка, на котором так чисто, с такой любовью к его живому звучанию говорил и писал Ленин».
Лавренёв известен и как один из зачинателей советской маринистики — литературы о людях моря и флота, о героических характерах, овеянных романтикой революционной борьбы и мирного созидательного строительства. «Любовь к свободе впитывали мы с молоком матери, — вспоминал Лавренёв годы спустя, — а вырастая, учились сознательно любить свободу, искать её, сражаться за неё, учились на примерах прадедов, дедов и отцов. Героями наших детских мечтаний были Хмельницкий, Палий, Сирко, Богун и несравненный Тарас Бульба, которого я и мои друзья мальчишки отказывались признать выдумкой Гоголя. Для нас это был живой человек, образец доблести и рыцарства.
До 16 лет я хотел стать художником. Но пришла первая влюблённость, а с ней первые стихи. Никому не показывая их и лишь очень редко печатая, я писал стихи до 1923 года, а потом окончательно перешёл на прозу. Но занятия живописью отразились на литературной работе в живописной яркости словесных пейзажей, в раннем периоде переходившей в неумеренную цветистость. Впоследствии я стал понимать, что проза тем сильнее, чем она сжатей, экономней и чем больше она подчинена основной строгой словесной архитектонике. Слишком яркие перья прозе не пристали.
Вырос я у Чёрного моря. Полюбил его с первого взгляда и навсегда верной любовью однолюба. Люди моря свободолюбивы, горды, прямы, и в них нет тех свойств, за которые я отказываю человеку в имени человека: трусости, подхалимажа и карьеризма».
Одним из заметных произведений писателя о людях моря можно назвать небольшую повесть «Марина», написанную им под впечатлением от пребывания в Евпатории, куда он попал на лечение, когда весною 1916 года испытал на себе газовую атаку противника.
Долгое время бытовало мнение, что повесть целиком автобиографична. Но Лавренёв развеял это недоразумение. В письме к одному из исследователей его творчества он писал: «Ради бога, не впадайте в обычное заблуждение относительно автобиографичности «Марины». Клянусь всеми страшными клятвами, что биография героя «Марины», как и биография самой Марины, со мной никакого соприкосновения не имеют. Канву этой истории мне рассказал в 1919 году мой сослуживец по штабу береговой обороны Крыма, действительно бывший кавалерийский корнет Клепцов. Я развернул эту историю вширь и из озорства, простительного молодости, повел её от первого лица, даже взяв для героя свою собственную фамилию».
Сюжет этой повести романтичен и наполнен удивительным светом, буйством красок и человеческих страстей, солнцем и «голубым хрусталём» Чёрного моря. А рассказана в повести история необыкновенной и пылкой любви офицера-фронтовика и простой девушки — рыбачки Марины, жительницы Евпатории. И ради этой любви герой повести отказывается от встреч «со своими», пренебрегает дворянскими сословными предрассудками. Любовь к гордой и свободолюбивой Марине, порождению моря и ветра, девушке из народа, приведёт корнета к столкновению с «обществом господ офицеров» и к досрочному отзыву на фронт. Но и там, вдали от прекрасной Евпатории, на дорогах империалистической и Гражданской войн, он, корнет, а затем красный командир, пронесёт эту любовь, как свет негаснущей звезды, как шум «солёного ветра», проносящегося над Чёрным морем.
«Марина» появилась в печати в 1924 году и сразу же вызвала немало споров. Критики упрекали тогда Лавренёва в незначительности содержания повести, в условной романтичности, книжности сюжета. Но не вызывает сомнений то, что этой повестью Лавренёв заявил о себе как талантливый писатель, которого отличает романтический строй речи и которому близка стихия высоких чувств и порывов. Повесть эту можно рассматривать и как пробу пера перед показом большой и сложной картины жизни, которую развернёт писатель перед читателем в своих лучших повестях — «Ветер» и «Сорок первый», а также в героико-революционной драме «Разлом», завоевавших всенародное признание.
Особняком в творчестве Лавренёва стоит повесть «Сорок первый», написанная в 1924 году в Ленинграде, в которой он рассказывает об истории рыбачьей сиротки из-под Астрахани, ставшей бойцом Красной Армии, — Марютки, воевавшей в Туркестане. А ещё это драма о судьбе комиссара «малинового» Евсюкова, Марютки и двадцати трёх бойцов, ушедших «на север, в беспросветную зернь мёрзлых песков», о том, как пришлось им выполнять свой революционный долг.
Крайне интересен образ Марютки, любимым выражением которой было — «рыбья холера», которое она, прекрасный стрелок, не выпускавшая из рук своей винтовки, прибавляла тогда, когда, находясь всегда при комиссаре, уничтожала очередного врага революции: «Тридцать девятый, рыбья холера. Сороковой, рыбья холера». Но на сорок первом, оказавшемся гвардии поручиком Говорухой-Отроком, её выстрел приносит ей личное горе.
Ситуация такова, что, выполняя задание комиссара Евсюкова по доставке белогвардейского поручика в фронтовой штаб, находившийся в Казалинске, бот, шедший по Аралу, терпит крушение и Марютка остаётся с молодым поручиком наедине на одном из островов Аральского моря. У них возникает чувство, они полюбили друг друга. Но, когда он увидит долгожданный бот и закричит: «Урр-ра!.. Наши!.. Скорей, господа, скорей!», она, вспомнив задание Евсюкова, кричит ему в спину ответные слова: «Эй, ты… кадет поганый! Назад!.. Говорю тебе — назад, чёрт!» И следует тот самый, роковой, сорок первый выстрел…
Случившаяся человеческая трагедия лаконично, но так искренне описана автором. «Родненький мой! Что ж я наделала? Очнись, болезный мой! Синегла-азенький!» Лавренёв показал правдивую историю, высветившую тот непростой выбор, который сделала в общем-то малограмотная, но честная и отчётливо услышавшая зов революции Марютка, выполняя свой революционный долг.
Повесть эта и поучительна, драматична и светла одновременно. С её написанием, при том что и ей досталось от ретивых критиков, Лавренёв убедительно подтвердил своё бесспорное писательское мастерство. И опять же, в ней мы видим море — суровое холодное Аральское море. Писатель не изменяет своей давней страсти.
Многие темы поднимал Лавренёв в своём творчестве. О развитии противоречий в семье, об отношении к быту и культуре говорил писатель в повести «Гравюра на дереве», увидевшей свет в 1929 году, но и сегодня заслуживающей современного осмысления. В ней показан директор треста Кудрин и его жена, обнажены их диаметрально противоположные морально-психологические и эстетические взгляды. По сути перед нами предстают люди, делавшие революцию, искренне считающие себя первопроходцами новых путей, но на очередном витке революции остановившиеся в своём культурном росте и начинающие обкрадывать и себя, и других. Это обстоятельство, говорит нам писатель, может быть причиной конфликта в новых условиях. И природа таких конфликтов очень занимала Лавренёва, пытавшегося в те годы постичь духовно-нравственный облик своих современников.
Эта тема актуальна и сегодня. Люди меняются. Кого-то вплотную накрывает мещанство. Кто-то становится циником и эгоистом. А некоторые начинают страдать манией величия, воображая себя выдающимися революционерами и радетелями за народное счастье. Что ж, это не ново. Об этом писал Лавренёв. Вот и нам, нынешним коммунистам следует не расслабляться и держать ухо востро, почаще прислушиваясь к таким классикам, каким и является Борис Андреевич.
Велика роль Лавренёва и как драматурга. Его по праву, наравне с В. Билль-Белоцерковским с его «Штормом», Л. Сейфуллиной, создавшей «Виринею», Вс. Ивановым, написавшим «Бронепоезд 14-69» и К. Тренёвым с его «Любовью Яровой», принято считать зачинателем советского драматического искусства, всегда нёсшего людям высокую духовность.
Драма Лавренёва «Разлом», пожалуй, более чем какая-либо из пьес двадцатых годов основана на реальных фактах. Хронологические рамки этого произведения точно обозначены. Действие первого акта приходится на 3 июля 1917 года, а в финале «Заря», подобно своему прототипу — крейсеру «Аврора», идёт в Петроград, дабы участвовать в Октябрьском штурме.
Однако Лавренёв готовил не исторический очерк. «Если бы я использовал целиком имевшийся у меня исторический материал октябрьской истории «Авроры», — писал он в статье, опубликованной в октябре 1927 года в «Красной газете», — я написал бы не пьесу, а четырёхактный стенографический отчёт происшествий на крейсере за период апрель — октябрь 1917 года. <…>
Поэтому я положил в основу драматургического узора пьесы только один бесспорно исторический факт — попытку взрыва «Авроры» адской машиной и на этом факте построил свободную драму».
История офицерского заговора становится в пьесе главным драматургическим мотивом. Но массовые сцены на корабле не затмевают сцен из жизни семьи Берсеневых. Лавренёв тем самым говорит зрителю о том, что в конкретных исторических обстоятельствах испытание проходит и отдельный человек, и вся матросская масса. Это и есть тот «разлом», как в сознании, так и в психике.
Блестяще Борис Андреевич показывает все сюжетные линии, сопровождающие положенную в основу пьесы историю. Ликвидация заговора и готовность идти на помощь восставшему Петрограду становятся тем итогом, который давался нелегко, а в острейших коллизиях, которые разрешаются победой над иллюзиями и предрассудками, а также освобождением от анархизма и ростом политической сознательности, дисциплины, решимости и сплочённости.
«Разлом» — это пьеса, где мы видим события, или, как писал Лавренёв, «процесс расслоения, который разделил комсостав флота на принявших революцию и пошедших с оружием на неё», и где показан как бы срез, воссоздающий картину общественных коллизий на примере семьи капитана Берсенева. В том-то и своеобразие художника Лавренёва, что он не мыслил своей работы без представления конкретного человека, его жизненных дорог, переживаний, радостей. Нельзя познать время в отрыве от отдельно взятых человеческих судеб, вылепленных Лавренёвым реалистично и как-то по-особому тепло, без излишней пафосности.
Революционной драмой «Разлом», последовавшей за его же «Мятежом», Лавренёв заявил о себе как о драматурге. А затем напишет пьесу «Враги», в 1942 году — пьесу «Песнь о черноморцах», в 1945-м появляется прекрасная пьеса о проблемах морали и этики и подлинном товариществе моряков Военно-Морского Флота «За тех, кто в море», удостоенная в следующем году Сталинской премии первой степени. В 1949-м, обличая заправил американского империализма, но испытывая при этом сочувствие к простым американцам, он пишет драму «Голос Америки», удостоенную годом позже Сталинской премии второй степени. Вышла из-под пера мастера и пьеса «Лермонтов», в которой он пытается представить историю последних пяти лет жизни великого поэта.
Каждая из этих пьес заслуживает особого разговора. Создавались они в разных обстоятельствах, и темы их Лавренёв продумывал тщательно. Интересна история заблуждений в погоне за мнимой славой капитан-лейтенанта Боровского, о которой поведал нам драматург в пьесе «За тех, кто в море». Много чего можно почерпнуть и сегодня при знакомстве с «Мятежом» и «Врагами», «Голосом Америки». Увы, эти замечательные пьесы не ставятся на современной российской сцене. Благо в советские годы книги Лавренёва издавались огромными тиражами вплоть до последних советских лет. Они имеются в библиотеках по всей нашей огромной стране.
Куда сложнее найти публицистику Лавренёва, а ведь и в этом направлении он работал так же страстно, как и в прозе и драматургии. Были в жизни писателя такие времена, когда его публицистика становилась мощным оружием. В связи с этим хотелось бы остановиться на статье «Человек-зверь», появившейся в «Правде» 17 августа 1941 года. С ленинской «Правдой» у Лавренёва были многолетние добрые отношения. В главной газете страны писателю неоднократно представляли возможность выступить и поделиться с читателями своими мыслями.
Чем же примечательна эта статья, родившаяся у писателя в то трагическое время? А тем, что автор очень подробно и гневно показывает зловещую фигуру Гитлера, прослеживая тот путь, что привёл последнего к превращению в зверя и людоеда, называя при этом имена тех, кто ему на этом пути помогал.
«Он решил, что наступила пора привести в исполнение чёрный бред его книги об истреблении и обращении в рабство советского народа, — писал в этой статье Лавренёв. — Он вероломно, из-за угла, напал на нас. И тут впервые чёртова мясорубка заскрипела, затрещала, осеклась. Она налетела на невиданное сопротивление народа, который за свою славную многовековую историю никогда не клал свою шею в ярмо завоевателя. <…>
И на неё (Советскую страну. — Р.С.) смотрит из Берлина мутными гляделками палача её хозяин. И впервые за всю его жизнь в этих гляделках появилась тень мысли. Мысль эта рождена страхом, животным страхом пойманного за руку убийцы. Он видит свой конец, этот чемпион преступлений, лжи и подлости, атаман выродков, который называется «фюрером» Германии.
Фашистскую гадину нужно раздавить, и она будет раздавлена во имя здорового будущего человечества».
Как писал друг Бориса Андреевича писатель П. Лукницкий, «даже в почтенном возрасте Лавренёв оставался молодым душою». Между тем в последние годы Лавренёв серьёзно болел, но планы его творческие были внушительными. Он хотел написать большое эпическое полотно о былинном мужестве и стойкости советских моряков и пехотинцев, артиллеристов и лётчиков. С этой целью писатель собирал фактический материал, обращаясь для этого к участникам прошедшей войны. Маринист, он вновь рвался к морю, приезжал в Севастополь, осматривал места боёв, беседовал с их участниками. Было уже дано и название новому роману: «Возвращение в Итаку». И к концу 1958 года роман был практически готов. В начале января 1959-го Лавренёва не стало.
Проходят годы, а имя этого большого художника продолжает жить. Живут его книги и снятые по ним прекрасные художественные фильмы.
Руслан СЕМЯШКИН
Источник: «Правда»